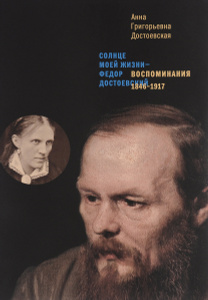“You don't look back along time but down through it, like water.
Sometimes this comes to the surface, sometimes that, sometimes nothing.
Nothing goes away.”
Когда я искала фото обложки, заметила, что на половине из них приписано «Маргарет Этвуд автор "Рассказа служанки"». И подумала, когда же Этвуд отпустит проклятие быть автором одной книги? Первая реакция при упоминании её имени это «Рассказ служанки». Говорим «Этвуд», думаем «Рассказ служанки». Хотя, на мой взгляд, это даже не самое «её» произведение. Просто оно удачно легло на канву нашего времени, чему помог сериал уже с тремя сезонами, комикс по книге и способствовало происходящее сейчас в США с репродуктивными правами. Очуметь, кончается вторая декада 21-го века, а власть имущие всё ещё решают, что можно женщинам делать со своим телом, а что нет.
Если объяснить популярность «Рассказа» номинацией на Букера, так «Кошачий глаз» тоже вошёл в шорт-лист 1988-го года, как и «Она же Грейс» в 1996-м. А выиграл Букеровскую премию так вовсе «Слепой убийца», а поди ж спроси на улице, кто его читал. Люди подумают, что это наверное новый роман Кинга вышел.
Вернёмся к «Кошачьему глазу». Это, наверное, самый автобиографичный роман Этвуд. При прочтении у меня закралось ощущение, что Этвуд пишет о своём детстве и о себе. Подтверждение тому я нашла в её сборнике 'Negotiating with the Dead', где она пишет о писательском труде и творчестве. В первом эссе она описывает своё детство, и становится понятно, что вдохновение для романа она черпала именно из него. Позже к этому вернусь.
Книга рассказывает о возвращении женщины среднего возраста, художницы, в родной город. Элейн Ризли (Elaine Risley) успешно выставляется, её картины покупают и коллекционируют, и вот в её городе детства Торонто организуют ретроспективу её работ. Она приезжает на открытие выставки, и вспоминает юность, своего первого мужа, с которым жила в этом городе, своих дочерей, родителей и брата. Но основное место в её мыслях занимают не они все, а её лучшая подруга детства Корделия, с которой они сто лет не общались, не виделись, и что сейчас с Корделией Элейн не знает. Поэтому каждая женщина оборачивается для неё Корделией. Каждая посетительница выставки может оказаться ей. Или женщина в обносках, которая попрошайничает на углу. Или женщина в соседней примерочной в магазине. Каждый раз у Элейн замирает сердце, и она ждёт, что Корделия подойдёт и скажет: «А вот и я».
Книга рассказывает о возвращении женщины среднего возраста, художницы, в родной город. Элейн Ризли (Elaine Risley) успешно выставляется, её картины покупают и коллекционируют, и вот в её городе детства Торонто организуют ретроспективу её работ. Она приезжает на открытие выставки, и вспоминает юность, своего первого мужа, с которым жила в этом городе, своих дочерей, родителей и брата. Но основное место в её мыслях занимают не они все, а её лучшая подруга детства Корделия, с которой они сто лет не общались, не виделись, и что сейчас с Корделией Элейн не знает. Поэтому каждая женщина оборачивается для неё Корделией. Каждая посетительница выставки может оказаться ей. Или женщина в обносках, которая попрошайничает на углу. Или женщина в соседней примерочной в магазине. Каждый раз у Элейн замирает сердце, и она ждёт, что Корделия подойдёт и скажет: «А вот и я».
Элейн выросла в семье, которая постоянно переезжала. В школу она не ходила до 8 лет. Её отец, энтомолог, по работе ездил и исследовал местные виды насекомых, а образованием Элейн и её брата занималась мать. Она же мечтала о подругах: ''Я знаю, что они существуют, ведь я читала о них в книгах'' (здесь и далее перевод мой). Когда наконец семья переезжает в нормальный, постоянный дом, Элейн отправляется в школу и находит тех самых желанных подруг. Их трое: Кэрол, Грейс и собственно Корделия. Лидером компании становится Корделия, как наиболее продвинутая в разных деликатных вопросах благодаря двум старшим сёстрам. Элейн все трое признают немного отсталой, неотёсанной, диковатой. И подруги очень хотят помочь ей исправиться: “Не горбись”, говорит Корделия. “Руками так не маши.”
Элейн очень хочет измениться, чтобы Корделия её похвалила и выбрала жертвой своего внимания Кэрол или Грейс. Взрослая Элейн не пытается объяснить прошлое, логику происходящего — её нет. Она вспоминает всё так, как оно было, как это воспринимают дети — как данность.
Элейн очень хочет измениться, чтобы Корделия её похвалила и выбрала жертвой своего внимания Кэрол или Грейс. Взрослая Элейн не пытается объяснить прошлое, логику происходящего — её нет. Она вспоминает всё так, как оно было, как это воспринимают дети — как данность.
“With enemies you can feel hatred, and anger. But Cordelia is my friend. She likes me, she wants to help me, they all do. They are my friends, my girlfriends, my best friends. I have never had any before and I’m terrified of losing them. I want to please.”Вспоминая прошлое, Элейн видит всё в деталях. Когда я начала читать, меня поразило обилие подробностей в одежде, интерьере, в пейзажах. Главная героиня вспоминает всё благодаря маленьким деталям, распускает ткань прошлого нить за нитью.
“We wear long wool coats with tie belts, the collars turned up to look like those of movie stars, and rubber boots with the tops folded down and men’s work socks inside. In our pockets are stuffed the kerchiefs our mothers make us wear but that we take off as soon as we’re out of their sight. We scorn head-coverings. Our mouths are tough, crayon-red, shiny as nails. We think we are friends.”Взрослая Элейн смотрит на всё, происходящее с ней в настоящем, с сардонической улыбкой и сомнением. Этвуд пишет очень живописно, поэтически, во всю силу своего писательского таланта. Я не могу своими словами передать её мастерство, и всё, что пишу о её стиле, кажется недостаточно точным или адекватным. Это тот самый случай, когда книгу надо читать (а не только отзывы о ней).
Мама Корделии сама составляет букеты, работая в перчатках. Моя мама не составляет букеты. Иногда она ставит несколько цветков в цветочный горшок, а его на обеденный стол, но эти цветы она рвёт сама, гуляя в брюках, вдоль дороги или в овраге. По-хорошему, это просто сорняки. Ей бы в голову не пришло покупать цветы. Я впервые понимаю, что у меня небогатая семья.Наблюдения героини об окружающем мире разбавляют мрачное повествование о прошлом. Одним из любопытных эпизодов становится поход уже взрослой героини на встречу женщин-художниц, актрис, певиц. Важно понимать, что речь идёт о 60-х годах. Тогда это было революционно. Встреча только для женщин (хотя Элейн и кидается в какой-то момент неприятным словом «гетто» относительно феминизма). Одни из лучших наблюдений из всей книги главная героиня делает именно на этой встрече:
Зачем, например, мы бреем ноги? Красим губы? Одеваем обтягивающую одежду? Меняем наш внешний вид? Что не так с нами от природы? Эти вопросы задаёт Джоди, одна из художниц. Она не наряжается и не меняет свою внешность. Она носит грубые ботинки и полосатый комбинезон, у которого закатана одна штанина, чтобы показать под ней ногу — вызывающе, невероятно волосатую. Я думаю о своих собственных, обнажённых ногах, и чувствую, что мне промыли мозги, потому что я не готова идти до конца. Черту я провожу в районе подмышек. Что не так с нами от природы — вина мужчин.
Но я на зыбкой почве в этих заявлениях против мужчин, потому что я живу с одним из них. Женщин, таких как я, замужем и с ребёнком, называют пренебрежительно «нучки», от нуклеарной семьи. Пролайфер теперь ругательство. В группе есть и другие «нучки», но они в меньшинстве и ничего не говорят в своё оправдание. Кажется, более достойно быть матерью-одиночкой. Такие расплатились за всё. Если ты остаёшься с мужчиной, в любых проблемах виновата только ты. Явно ничего из этого не проговаривается.*(*перевод выше мой, на русский книгу не переводили)
Я могу продолжать ещё долго, потому что 'Cat's Eye' действительно заставляет задуматься о многом. Где проходит граница между желанием родителей дать ребёнку самостоятельность и отстранённости? Где проходит грань между шутками над работой другого и унижением? Где заканчиваются личные границы девочки-подростка и начинается родительская халатность?
Этвуд не даёт ответов, но заставляет читателя поразмыслить. В книге на первый план выходят даже не отношения между девочками, а взгляд главной героини, направленный в прошлое и выхватывающий оттуда то, что привело её к настоящему. Именно это ценно, а писательница рассказывает нам это прошлое со всем своим мастерством.
Вначале я упомянула, что роман во многом автобиографичен для писательницы. Совпадения с детством Этвуд и Элейн порой просто буквальны. Например, отец Этвуд работал энтомологом, и каждую весну они всей семьёй уезжали на Север Канады, где он исследовал насекомых. В дороге они ночевали, где придётся. В палатках, вагончиках, чьих-то пустых домах. С полугода маленькую Пегги (так её звали родители) возили по диким канадским лесам, и она не ходила в сад. В обычный, нормальный дом со спальнями она первый раз попала в 5 лет. Подруг находит в 8 лет, когда семья переезжает в Торонто.
Ключевым отличием писательницы и её «двойника», пожалуй, становится профессия. В книге она художница, но забавно, что и в жизни, и в книге им обеим добрая знакомая родителей сказала «Ну ничего такая работа, можно же и дома этим заниматься», имея в виду, что с рождением детей жена и мать сидит дома. Словом, 'Cat's Eye' это такой интроспективный, психотерапевтический для Этвуд роман. Наверное, наиболее интересен будет её поклонницам/кам, чтобы лучше узнать любимую писательницу и её взгляды по различным социальным вопросам. Я получила огромное удовольствие от прочтения.
К сожалению, книга не переведена на русский. Я читала на английском. И да, странноватая обложка имеет отношение к сюжету, но это уже спойлер.
Margaret Atwood, 'Cat's Eye'. Маргарет Этвуд, «Кошачий глаз».
Мой рейтинг: 10 из 10.
Amazon